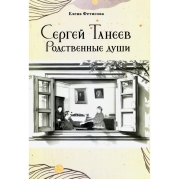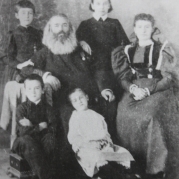Когда-то земли по Нерехте входили в состав Стародубского княжества, территория которого простиралась от нынешнего Камешковского до Вязниковского районов. Одной из старших линий стародубской княжеской династии, которая шла от младшего сына Всеволода Большое Гнездо князя Ивана I Всеволодовича Стародубского, являлись князья Кривоборские. Свое прозвание Кривоборские получили от Кривого Бора, находившегося в районе нынешней деревни Игумново юго-восточнее Коврова. Первым князем Кривоборским стал живший в XV столетии Иван Федорович — старший сын князя Федора II Андреевича Стародубского и внук героя Куликовской битвы князя Андрея Федоровича Стародубского. Однако особенностью землевладения этих князей являлось отсутствие у них компактного удела. Им принадлежали отдельные вотчины, расположенные на большой территории — от села Крутово Ковровского района близ М7 до окрестностей древнего Николо-Нередичского погоста прежней Мстерской волости Вязниковского уезда. Часть этих вотчин находилась сразу в двух будущих уездах — Ковровском и Вязниковском, как, например, старинное село Овсянниково с окрестными деревнями и пустошами.
С течением времени прежние княжеские вотчины достались их наследникам, в том числе, видимо, потомкам по женской линии. В числе таких наследников оказалось вязниковское семейство Нестеровых. Очевидно, Нестеровы, потомки царских дьяков, состояли в родстве как с князьями Кривоборскими, так и с князьями Ромодановскими — тоже потомками стародубской княжеской династии.
При Екатерине II Нестеровы обосновались в села Барском-Татарове, которое до 1778 года вместе с Богоявленской слободой (Мстерой), Сарыевом и селом Ковровом (нынешним городом Ковровом) входила в обширный дореформенный Суздальский уезд. В 1760-е владелец усадьбы в Барском-Татарове отставной капитан Петр Степанович Нестеров, сын сподвижника светлейшего князя А. Д. Меншикова, по воле Екатерины II стал первым суздальским прокурором в чине надворного советника (равного подполковнику). После учреждения Вязниковского уезда П. С. Нестерова избрали одним из первых вязниковских уездных предводителей — этот пост он занимал до 1790 года, а четыре года спустя скончался в Барском-Татарове, где и был похоронен.
Бывшего прокурора в должности вязниковского предводителя сменил его старший сын надворный советник Василий Петрович Нестеров, человек богатый, но вздорный и сложный в общении, любитель неумеренных возлияний, известный крайней скупостью по отношении к родным и прислуге. Его даже в светских кругах Москвы знали под прозванием «Кощея» — вследствие пресловутой скупости.
Полной противоположностью Василию Нестерову была его супруга Надежда Алексеевна, урожденная Безобразова. Она была на десять лет моложе мужа и происходила из богатой и знатной семьи, которая проживала в селе Патакино на Клязьме Владимирского уезда (в нынешнем Камешковском районе). Ее отец, отставной гвардейский офицер дружил с любимцем Екатерины II графом Григорием Орловым и воспитателем царских внуков князем Николаем Салтыковым — будущим фельдмаршалом, управлявшим Россией в годы заграничных отлучек императора Александра I. Одна из сестер Надежды даже вышла замуж за графа Апраксина — родственника императорской фамилии.
В отличие от мужа Надежда Алексеевна была дамой не только приветливой и во всех отношениях светской, но и хорошей хозяйкой. Она прекрасно управлялась со своим и мужниным имениями, имея незаурядную деловую хватку. В. П. Нестеров скончался в 1820-е годы примерно в 60-летнем возрасте. После этого его вдова Н. А. Нестерова осталась полновластной хозяйкой владений Нестровых, которыми твердой рукой правила вплоть до своей кончины в 1852 году в 87-летнем возрасте.
Помимо прочих угодий Нестеровым принадлежала пустошь Пятница в Ковровском уезде на поросшем сосняком правом берегу реки Нерехты. Когда-то эти земли принадлежали князьям Кривоборским. Во времена Ивана Грозного именно там была чудесным образом обретена икона святой Параскевы Пятницы. В честь этого образа князь Василий Иванович Кривоборский в третьей четвети XVI века устроил Пятницкий монастырь близ села Крутово на речке Нерехте. На месте обретения иконы поставили Пятницкую часовню. Со временем и монастырь, и часовня исчезли, но название пустоши Пятница оставалось вплоть до начала XX века и многократно зафиксировано в архивных и печатных источниках.
Пустошь Пятница, далеко отстоявшая от основных имений Нестеровых, долгое время никак не использовалась. Однако она находилась близ так называемых Великовских гор, где находились большие залежи камня-известняка, который с каждым годом оказывался все более востребованным при строительстве и изготовлении недорогих каменных надгробий. Поэтому барыня в Барском-Татарове в 1828 году решила устроить в Пятнице каменоломню для добычи популярного строительного материала. Для этого она перевела туда часть своих крепостных из Вологодской губернии, «приписав» их к пустоши Пятница.
По данным восьмой ревизской переписи 1834 года в Пятнице числились постоянно проживающие там 24 человека дворовых людей госпожи Нестеровых: 13 мужского и 11 женского пола. Видимо, это был временный поселок, где находились работающие по добыче известняка с их семьями. Известковый камень добывался вручную при помощи забивания клиньев в толщу породы, используя ломы, железные клинья и молоты — последние прозывались «кулаками». Добытый известняк шел по большей части на устройство фундаментов и цоколей зданий, на могильные памятники, а также для приготовления извести.
Известный владимирский краевед Константин Тихонравов в середине XIX века так описывал приготовление извести на Великовских горах: » Вынутый камень складывается верткой, вокруг ямы, образовавшейся от вынутия его, сажень шести в окружности, и кверху смыкается сводом; в печь, или в пустоту, которая остается внутри под сводом, кладутся дрова. Чтобы обжечь камень до извести, употребляют дров около 350 сажень; жгут его 10 суток кругом, день и ночь без малейшей перемежки. Для этого нужно на каждую печь не менее 9 человек: трое возят дрова, трое стоят у выхода из ямы и подбрасывают туда дрова, а трое отдыхают для смены. Бывают случаи, что иногда прорывает окошки, несколько камней сверху падают; огонь, находя чрез это отверстие свободный выход из-под свода, устремляется в окошко и лишается силы, необходимой для обжигания камня до извести. В подобных случаях работы прекращаются, и печь, повредившаяся таким образом, оставляется. Каждая печь дает до 18000 пудов извести».
При обжиге извести широко использовался и женский труд.
Дело было весьма прибыльное и перспективное.
Каменоломня надворный советницы Надежды Алексеевной Нестеровой, очевидно, проработала вплоть до кончины ее владелицы в 1852 году. Затем ее наследниками — внучкой Марией Протасьевой и внуком отставным гусарским офицером Михаилом Кашинцевым работы в Пятнице были остановлены. Уже в советское время там был устроен небольшой песчаный карьер, так как механизированная добыча известняка в огромных масштабах стала проводиться Владимирским и Ковроским карьероуправлениями в нескольких километрах севернее Пятницы. Однако каменоломня барыни Вязниковского уезда оказалась там одной из первых.
 Пустошь Пятница на карте 1770-х гг. Обозначена участком под № 75 справа. В центре река Нерехта. Слева деревня Горожаново (у нынешнего Доброграда) и село Великово
Пустошь Пятница на карте 1770-х гг. Обозначена участком под № 75 справа. В центре река Нерехта. Слева деревня Горожаново (у нынешнего Доброграда) и село Великово

 герб рода Нестеровых
герб рода Нестеровых печь для обжига извести
печь для обжига извести Добыча известняка в XIX веке
Добыча известняка в XIX веке